Элис Балинт
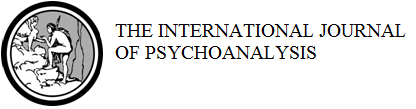 Статья была опубликована в «Международном Журнале Психоанализа» в 1949 г.
Статья была опубликована в «Международном Журнале Психоанализа» в 1949 г.
Bálint, A. (1949). Love for the Mother and Mother-Love. Int. J. Psycho-Anal., 30:251-259.
Балинт, Э. (1949). Любовь к матери и материнская любовь.
(Перевод на английский язык: Михаэль Балинт)
Перевод с английского: Татьяна Беритц
Статья Элис Балинт, ученицы Шандора  Ференци, жены знаменитого психоаналитика Михаэля Балинта, посвящена анализу одной из форм любви к матери, которую Э. Балинт называет архаичной и относит к примитивной или наивной форме эгоизма. Автор высказывает идею о том, что в данной форме любви нет ненависти в чистом виде, несмотря на то, что присутствует полное пренебрежение интересами другого (матери). С позиции такой примитивной формы любви «идеальная мать не имеет собственных интересов». Э. Балинт демонстрирует проявления архаичного типа любви на примере случаев из своей практики, анализируя переносные реакции пациентов.
Ференци, жены знаменитого психоаналитика Михаэля Балинта, посвящена анализу одной из форм любви к матери, которую Э. Балинт называет архаичной и относит к примитивной или наивной форме эгоизма. Автор высказывает идею о том, что в данной форме любви нет ненависти в чистом виде, несмотря на то, что присутствует полное пренебрежение интересами другого (матери). С позиции такой примитивной формы любви «идеальная мать не имеет собственных интересов». Э. Балинт демонстрирует проявления архаичного типа любви на примере случаев из своей практики, анализируя переносные реакции пациентов.
Элис Балинт
Любовь к матери и материнская любовь
Отношения матери и ребенка изначально находились в центре психоаналитического внимания. Значение этой темы только возросло, когда в исследования наших случаев была выявлена необходимость регулярно возвращаться к доэдипальному периоду. Эти отношения с первичным объектом, истоки которых уходят в смутные времена, когда границы Эго и внешнего мира взаимопроникаемы, несут важнейшее значение, как в теоретическом, так и в практическом плане. Поэтому вполне понятно, что каждый из нас пытался, так или иначе, подступиться к вопросу отношений матери и ребенка. Мой вклад в эту проблему – это, главным образом, попытка обобщения материала, и я могу претендовать лишь на оригинальность точки зрения, на основе которой оно строилось[1].
I
В качестве отправной точки могут послужить клинические примеры. Я начну с примера, в котором любовь к матери выражалась в особенно необычной форме. Речь идет о пациентке, чей основной симптом проявлялся в том, что она была вынуждена быть рабой собственной матери. Вскоре стало ясно, что ее безуспешные попытки освободить себя являлись реакциями на разочарования, т.к. в действительности она любила свою мать и шла на бесчисленные жертвы со своей стороны, стремясь удовлетворить ее, чего, однако, у нее так никогда и не получалось. Вызывало удивление, что дочь была абсолютно беспомощна, терпя беспричинные упреки со стороны матери, и испытывала при этом чувство вины, которое было совершенно ей непонятно. Необычайно выраженный комплекс маскулинности стал первым обоснованием ее чувству вины. В самом начале анализа стало очевидным ее желание замещения роли собственного отца (и заботливого любовника) по отношению к своей овдовевшей матери. Первые годы анализа практически полностью были посвящены проработке ее комплекса маскулинности. К окончанию этой фазы ее отношение к матери значительно улучшились. Она добилась практически полной свободы передвижения, могла уходить и приходить, когда хотела, у нее появилась личная жизнь, как и положено взрослому человеку. Ее сексуальная жизнь также претерпела изменения к лучшему. Будучи ранее абсолютно фригидной, она развила способность, хоть и не в полной мере стабильную, испытывать оргазм, и кроме того, была несколько раз беременна. Все это, даже несмотря на то, что она делала аборты, указывало на возрастающую степень принятия ею своего женского начала. Но, невзирая на все эти улучшения, ее чувства страха и вины по отношению к матери оставались по-прежнему сильными. Было обнаружено, что ее чувство вины коренилось в желании смерти своей собственной матери. Однако это желание появилось отнюдь не из чувства ненависти к матери. Эта ненависть служила лишь вторичной рационализацией для куда более примитивной установки, согласно которой пациентка просто требовала – мать «должна быть здесь» или «не должна быть здесь» согласно ее потребностям. Мысль о смерти матери наполняла пациентку теплыми чувствами, которые коренились не в чувстве покаяния, а в чем-то вроде «как это хорошо с твоей стороны, что ты умерла, как сильно я люблю тебя за это». Чувство вины этой пациентки хорошо проявлялось в реальности, например, в том, как именно она любила свою мать. Это был такой тип любви, которого действительно можно было бы опасаться, и который полностью объяснял нежелание пациентки когда-либо иметь детей. Мы обнаружили в этом глубокое убеждение, согласно которому в обязанности любящей матери входит позволение себя убить ради благополучия детей, если потребуется. Другими словами, мы обнаружили у этой «дочери плохой матери», что на самом деле она требовала от матери абсолютного самоотречения. Она любила свою мать как если бы та была единственным на свете человеком, который, по крайней мере, бессознательно, мог допустить возможность предъявления к ней таких требований. Попытки пациентки освободиться от матери, так же как и ее усилия угождать ей теперь приобрели новый смысл.
Они явно были также противоположными по катексису, и с их помощью пациентке удавалось подавлять свою примитивную форму любви. Стал также ясен и смысл ее стремления идентифицироваться с мужем (любовником) матери. С одной стороны, эта идентификация, как было установлено ранее, служила удовлетворению ее маскулинных желаний. Однако на более глубоком уровне такая идентификация пациентки выражала ее требование любви в инвертированной форме. Как мать была любима своими любовниками, так же и дочь хотела быть любимой своей матерью. И, так же как и мать без зазрения совести использовала мужчин, а затем бросала их, когда те становились бесполезными (старели или заболевали), так же и дочери хотелось использовать мать, а затем избавиться от нее сообразно своим прихотям. Когда пациентка позволяла матери эксплуатировать себя, она пыталась также получить от ненависти силу, необходимую для того самого чувства беспринципной беспощадности, которое она так ненавидела в своей матери.
Этот глубинный уровень отношения к мат ери не может быть понят как в чистом виде амбивалентный (так же как мы не можем сказать, что охотник ненавидит зверя, которого собирается убить). Когда дети с самым невинным на свете лицом говорят о том, что хотели бы, чтобы любимый человек умер, было бы крайне ошибочно объяснять это ненавистью, особенно если подобное желание касается матери или того, кто ее замещает. Маленькая дочь, считающая, что ее мамочка должна мирно почить, чтобы она (дочь) смогла выйти замуж за папу, совсем необязательно испытывает ненависть к матери. Она просто считает вполне естественным, что хорошая мамочка исчезает в нужный момент. Идеальная мать не имеет собственных интересов. Настоящая ненависть[2] и вместе с тем настоящая амбивалентность чувств намного легче может развиться по отношению к отцу, которого ребенок с самого начала воспринимает, как человека, имеющего собственные интересы.
ери не может быть понят как в чистом виде амбивалентный (так же как мы не можем сказать, что охотник ненавидит зверя, которого собирается убить). Когда дети с самым невинным на свете лицом говорят о том, что хотели бы, чтобы любимый человек умер, было бы крайне ошибочно объяснять это ненавистью, особенно если подобное желание касается матери или того, кто ее замещает. Маленькая дочь, считающая, что ее мамочка должна мирно почить, чтобы она (дочь) смогла выйти замуж за папу, совсем необязательно испытывает ненависть к матери. Она просто считает вполне естественным, что хорошая мамочка исчезает в нужный момент. Идеальная мать не имеет собственных интересов. Настоящая ненависть[2] и вместе с тем настоящая амбивалентность чувств намного легче может развиться по отношению к отцу, которого ребенок с самого начала воспринимает, как человека, имеющего собственные интересы.
В следующем случае речь пойдет о гомосексуальном пациенте в возрасте 21-го года, который обратился с жалобой на неспособность найти и снискать расположение кого-либо, кто бы смог его полюбить. Постепенно стало ясно, что именно он сам и не мог испытывать любовь (в смысле построения отношений). Оказалось, что он очень мало знает обо всех тех мужчинах, с которыми состоит в гомосексуальных отношениях, и от которых он требует чрезвычайной нежности. Его недостаточный интерес к другим людям был очевиден, а вместе с ним и тенденция требовать от всех и каждого той самой безусловной любви, которую требует ребенок от матери. Стало ясно, что он совсем не хочет любить и быть любимым так, как это обычно бывает у взрослых людей. Он утверждает, что партнер, который любит его (пациента), причиняет ему беспокойство и вызывает страх. В итоге пациент начинает понимать, что он на самом деле хочет найти кого-то, кто не в силу любви – т.к. влюбленные самолюбивы, — а из благородных чувств осыплет его дарами. Вскоре мы увидим, что «долг благородного человека» — на самом деле «родительский долг». Суть родительского долга в том, что родители ничего не предъявляют детям, потому что выполняют только свой долг по их обеспечению, поддаваясь давлению общественного мнения, независимо от того, какие это дети — хорошие или непослушные. Это удобные «любовники». Нетрудно понять, что под этой личиной скрывается примитивная форма любви ребенка, который еще не сделал открытие относительно того, что его мать – это отдельное существо со своими интересами. Позже, когда мать потребует отдачу за свою любовь, ее будут воспринимать как доставляющую неудобство, и ее требования будут отклонены. «Я вообще не хочу, чтобы меня любили», — уверенно скажет однажды ребенок. В действительности это будет означать: «Почему меня не любят также (т.е. самоотреченно), как любили раньше?»
Подобный страх быть любимым, или, если выразиться точнее, страх требований со стороны партнера показан в третьем случае. Пациент, находясь в анализе, рассказал следующий сон: «Войдя в свою квартиру, он видит большую трубу посреди комнаты; он ложится на нее, как на кровать. Она, действительно, превращается в кровать (или кушетку), но вскоре оборачивается пожилой женщиной, издающей непристойные, хриплые звуки. Он испытывает отвращение и спускается с нее, хотя она пытается удержать его». Непосредственным поводом для сна стала наблюдаемая однажды пациентом сцена, когда его мать баловала своего внука, которого ей хотелось иметь исключительно для себя. С огромным опасением он признал скрытый эротизм в ее действиях и одновременно испытал чувство стыда за свою ревность. За ревностью скрывается также и симпатия к своему маленькому племяннику, которого, очевидно, ждет та же участь, что и некогда самого пациента. Этот момент настанет, когда племянник тоже попытается вырваться из тесных объятий бабушки, но она удержит его так же, как когда-то удерживала своего сына.
Во сне скрыто несколько смысловых пластов, среди которых есть ряд указаний на наличие кастрационной тревоги у пациента. С нашей точки зрения, самой главной деталью является возникшее у пациента чувство возмущения от осознания наличия эротизма в материнской (и бабушкиной) любви. До этого он критиковал свою мать за недостаток понимания с ее стороны, но не за эгоистичность. Сейчас она превратилась для него в похотливую старуху, использующую сына для собственного удовлетворения. В действительности, у него такое же отношение ко всем женщинам. Сексуальные желания женщины мучительны для него и вызывают страх. Женщины должны быть страждущими, но не требовательными. Он предпочитает видеть в них плачущее дитя, которое хочет, чтобы его пожалели и утешили. Брак запрещен, в противном случае женщина получает нечто, и поэтому он уже не может верить в искренность ее любви. То, что требования бывают взаимны, непонятно для него так же, как для ребенка, живущего в качестве эктопаразита на теле своей матери. Одним из его основных симптомов является страсть к довольно маленьким девочкам, которые, тем не менее, могут представляться ему в непристойных образах. Дети, с которыми он обращается как с куклами, и о чувствах которых ему не нужно беспокоиться, символизируют, в сущности, его мать. Они истинные, бескорыстные объекты любви.
В ходе анализа этих трех случаев отношение к объекту любви интерпретировалось различными образами: как оральная тенденция к поглощению, как нарциссическая позиция, как потребность быть любимым, как эгоизм и т.д. в соответствии с материалом для интерпретации. В конечном счете, все же наиболее подходящим мне кажется вариант, который я использовала при описании материала случаев. Оральная тенденция к поглощению проявилась только как одна специфическая форма выражения этого типа любви, которая могла быть проявлена более или менее четко. Концепция нарциссизма не подходила ввиду того факта, что при рассматриваемой нами форме любви наблюдалась четкая направленность на объект, а концепция пассивной объектной любви (желание быть любимым) оказалась наименее удовлетворительной, особенно в свете высшей степени активной позиции, характерной для данной формы любви. Ближе всего к пониманию этого феномена мы подходим, используя концепцию эгоизма. По существу мы имеем дело с архаичной, эгоистичной формой любви, изначально направленной исключительно на мать; ее (любви) основная особенность — в полном отсутствии чувства реальности в том, что касается интересов[3] объекта любви. Я буду называть это эгоизмом, который, по сути, является лишь следствием недостатка чувства реальности. Эту примитивную (naive) форму эгоизма следует отличать от сознательного пренебрежения интересами объекта.
Ясное представление об этой любви, направленной преимущественно на мать, можно получить, с моей точки зрения, благодаря развитию характерного вида переноса, который формируется в каждом случае, независимо от пола, возраста или формы расстройства, и обнаруживается также и в учебном анализе, т.е. у практически здоровых людей. В статье[4] по работе с переносом я описала этот вид переноса, как паранойяльно гиперчувствительное и невнимательное к другим, эгоцентричное отношение. Такое отношение сохраняется ввиду характерной слепоты по отношению к личности аналитика, который, проводя лечение, не имеет собственных интересов, в отличие от других людей. Необходимый для изменения этого отношения инсайт достигается, как правило, только в ходе периода возрастающей независимости от анализа и то лишь мало-помалу. Я бы добавила еще один пример к этому общему описанию.
Пациент просит увеличить количество сессий в неделю, добавив еще одну. Его желание оправдано тем, что он приходит только четыре раза в неделю из-за недостатка времени. Несмотря на это я сохраняю пассивность и удерживаю себя от анализа этого желания, что помогает нам проникнуть в суть эмоциональной жизни пациента. Желание добавить еще одну сессию в неделю представляет собой объяснение в любви эмоционально очень зажатого пациента. В то же время, однако, это являлось также и защитой от осознания этого эмоционального порыва. Ему хотелось увеличить количество сессий для того, чтобы избежать чувства тоски по мне, которое выдавало его любовь. В реальности, как он объяснил мне в деталях при обсуждении этого, он хотел получить дополнительную сессию, чтобы не быть вынужденным любить меня. Самой неприятной мыслью для него было то, что у меня, возможно, не окажется для него времени, т.е. что наши интересы могут не совпасть. Ему хотелось быть со мной, но так, если это возможно, чтобы не быть вынужденным замечать меня. Можно было бы легко отнести подобное отношение к нарциссическому изъятию либидо в тот момент, когда напряжение, вызванное страстным желанием, достигло определенной точки. С другой стороны, его желание несомненно было объяснением в любви. Было бы верно предположить, что здесь мы имеем дело с любовью, той архаичной формой любви, базовым условием для которой является полное совпадение интересов[5]. При этой форме любви нет надобности пытаться узнавать и понимать объект своей привязанности, т.к. «в любом случае он хочет того же, что и я». Это незначительное наблюдение, на мой взгляд, важно, т.к., вероятно, может помочь проникнуть в суть той иллюзорной самодостаточности, которая, как мы допускаем, свойственна удовлетворенному ребенку.
Другой характеристикой архаичной формы любви является псевдоамбивалентность. Ввиду примитивной формы связи с объектом, перемены в поведении по отношению к объекту необязательно являются следствием изменившихся чувств (любовь, ненависть). Изменения в поведении берут свое начало в детской примитивной форме эгоизма. В этом случае антагонизм, существующий между собственными интересами и интересами объекта, не воспринимается вовсе. Например, когда маленький ребенок или пациент, находящийся в этой форме переноса, думает, что мать (или аналитик) не должна болеть, это означает обеспокоенность благополучием не другого, а самого себя так, как если бы собственное благополучие подверглось бы угрозе ввиду болезни другого. То, что это, действительно, так, хорошо проявляется в недружелюбном отношении ребенка – или пациента – к реальному эпизоду тяжелой болезни. Должны ли мы тогда сомневаться в том, что такое поведение носит любовный характер? Заболев на несколько месяцев, я получила хорошую возможность разобраться с этим вопросом. Все мои пациенты без исключения злились на меня за то, что я болела, т.к. чувствовали, что с ними поступили несправедливо, и это чувство в некотором смысле было правомерно ввиду реальной ситуации. Их злость была самым сильным проявлением их инфантильной любви и привязанности ко мне. Я хочу обратить внимание на тот факт, что выражения «привязанность», «цепляние», так же как и немецкое «Anhang-lichkeit» и венгерское «ragaszkodás» (липучесть, цепляемость), описывающие этот тип инфантильной любви, являются прекрасными примерами неосознаваемого.
Хотя я не сомневаюсь, что каждый признает в этом описании, что такая форма любви направлена преимущественно на мать (я только повторила то, что уже, как правило, известно), я бы хотела сделать акцент на следующем наблюдении. Большинство вполне нормальных людей, будучи способными ко «взрослой», альтруистичной форме любви, в которой есть место интересам партнера, сохраняют это наивное эгоистичное отношение к матери на протяжении всей своей жизни. То, что интересы матери и ребенка идентичны, остается для всех нас само собой разумеющимся, и то, насколько глубоко мать ощущает эту идентичность, является, по существу, общепризнанным мерилом для определения того, «хорошая» перед нами мать или «плохая».
Перед тем, как оставить эту тему и перейти к рассмотрению материнской любви, я бы хотела ненадолго вернуться к моему наблюдению относительно любви к отцу[6]. Хотя «отцовские семьи» перенимают многие материнские черты в обращении с ребенком, вследствие чего ребенок во многом начинает относиться к отцу как к матери, все же та архаичная нить, связывающая мать и дитя, теряется. Ребенок начинает понимать, что отец руководствуется принципом реальности. То, что дети обычно более послушны с отцами, а не с матерями, не может быть объяснено исключительно тем, что отцы могут быть строже, чем матери. В отношениях с отцом ребенок в большей степени ведет себя в соответствии с реальностью, т.к. в этих отношениях никогда не было тех архаических основ подлинной, естественной идентичности интересов. Мать, однако же, не должна желать чего-либо, что может идти вразрез с интересами ребенка. Это же объяснение справедливо и в отношении того факта, что люди, приглашенные со стороны, с педагогической точки зрения оказываются более эффективными. Мы находим подтверждение этому и в народных сказках, где, если мать плохая, то она непременно мачеха, а плохой отец совсем необязательно является отчимом. И это характерно как для сыновей, так и для дочерей (что, по существу, является дополнительным аргументом в пользу архаической природы описанного выше типа любви; она проявляется в схожих чертах у обоих полов, поэтому очевидно имеет доэдипальное происхождение). Таким образом, любовь к матери – это любовь, с самого начала лишенная чувства реальности, в то время, как любовь и ненависть к отцу, включая Эдипову ситуацию, находится во власти реальности.
[1] Части этой работы были впервые опубликованы под названием «Эволюция любви и чувство реальности» в томе С. Ференци Lélekelemzési tanulmányok, Budapest, 1933. Последняя версия вышла под названием ‘Liebe zur Mutter und Mutterliebe’ in Int. Z. f. Psa. u. Imago, 24, 33–48, 1939.
[2] Настоящая ненависть – это агрессия в чистом виде; псевдоненависть берет свое начало в требовании альтруизма от матери.
[3] Я имею в виду здесь как либидинальные, так и Эго-интересы объекта.
[4] Alice Balint. Handhabung der bertragung auf Grund der Ferenczischen Versuche. Int. Z. f. Psa., 1936, 22.
[5] Другой пациент с подобной подавленностью эмоциональной сферы сказал однажды ближе к концу сессии: «Es geht zu Ende mit uns» (Между нами все ближется к завершению).
[6] Alice Balint, 1926: ‘Der Familienvater’, Imago, 12, 292–304.
Продолжение следует
При цитировании активная ссылка на сайт обязательна